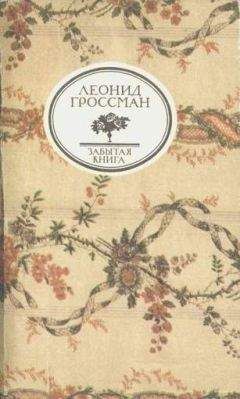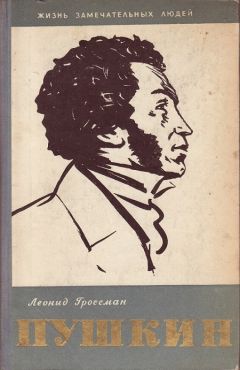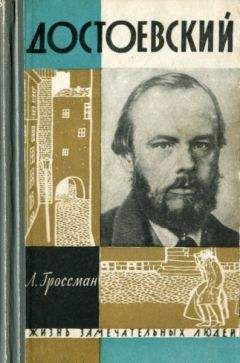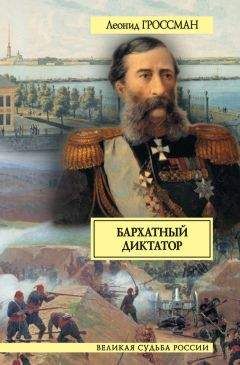Леонид Гроссман - Записки д`Аршиака, Пушкин в театральных креслах, Карьера д`Антеса
Все опасения мои оказались тщетны, — он почти дружески беседовал со мной. Я передал ему письмо посланника и устно сообщил ему, что барон Жорж Геккерн шлет ему свой вызов. Не вскрывая конверта, Пушкин отвечал, что вызов принимает и заранее согласен на все условия.
— В таком случае, — поторопился я перейти к материальной стороне дела, — будьте любезны назвать мне вашего секунданта.
— Мне затруднительно, по понятным соображениям, сделать это сейчас, но вы его узнаете в самом непродолжительном будущем.
— Превосходно. Я отправляюсь непосредственно к себе в посольство и буду ждать вашего представителя. Нам необходимо сговориться сегодня же, ибо встреча должна произойти не позже завтрашнего дня.
— Таково и мое желание, — наклонил голову Пушкин.
Я поклонился и вышел.
Но с этого момента порывистая, капризная, мятущаяся натура поэта начала сказываться в пренебреженьи установленных обычаев и правил дуэли. Мне пришлось занять строгую позицию и неоднократно призывать его к порядку.
Тщетно прождав секунданта Пушкина до девяти часов, я известил его запиской, что буду ждать его представителя до одиннадцати часов дома, а после этого часа — на балу у графини Разумовской.
Не дождавшись никого в посольстве, я в двенадцатом часу отправился на бал.
VII
Гораздо позже я узнал обстоятельства, вызвавшие последнее письмо Пушкина к Геккерну.
На следующий же день после свидания на квартире Полетики, во вторник утром, Пушкин получил по городской почте анонимное письмо. Ноябрьские пасквили по своему содержанию и произведенному действию были совершенным пустяком перед этим новым ударом из-за угла. Коротенькая французская записка в насмешливом тоне извещала «славного поэта Александра Пушкина» о состоявшейся накануне счастливой встрече. Плоские и грязные намеки были облечены в ироническую форму старинной идиллии.
Пушкин пришел в бешенство. Он потребовал объяснений от Наталии Николаевны, выслушал в крайнем возбуждении ее правдивую исповедь, в гневе ломал ей руки, настаивал на подробном и полном изложении всех обстоятельств свидания. При этом он в исступлении поносил д'Антеса и старого Геккерна, не находя достаточно бранных слов по их адресу. Фраза барона о «Пушкине-рогоносце» уже успела дойти до него. Теперь он обвинял голландского посланника и в авторстве нового анонимного пасквиля. Только после клятвы Натали в полной невинности всего ее поведения Пушкин немного успокоился, но в самом мрачном состоянии заперся у себя в кабинете. Он долго и нервно писал, разрывал написанное и снова продолжал писать.
Так добился д'Антес нового вызова. Но обо всем этом я узнал впоследствии, когда Катрин Геккерн за границей передавала мне со слов сестер некоторые эпизоды дуэльной истории. Тогда же события неслись с бурной стремительностью и поражали своей полной неожиданностью.
VIII
Я хорошо запомнил мой последний бал в Петербурге. Как все ночные празднества этой поры, — между Рождеством и масленой, — он был многолюден и ослепителен. Темные кущи лимонных и лавровых деревьев окаймляли белые стены гостиных, залитые снопами лучей от люстр, жирандолей и канделябров. Вдоль зеркально отполированных колонн колыхалось живое море танцующих в разноцветных гвардейских формах, дворцовых мундирах, темных фраках и белых кружевах. И эта взволнованная человеческая стихия с ее искрящимися всплесками орденов и алмазных уборов словно обтекала округленные стены мраморного зала, с высоты которого лилась и звенела струнная музыка, прерываемая гулом литавр, вздохами флейт и медными кликами труб.
Среди этого беспечного и радостного празднества я должен был сговориться об одной смертельной встрече.
Проходя за колоннами, я увидел Пушкина, живо беседовавшего с Александром Тургеневым. Этот «маленький Гримм», как его называли у нас, недавно лишь прибыл из-за границы. Я хорошо знал его по Парижу и привык видеть в нем самого просвещенного из русских. Архивы Ватикана и Лондона были его родной стихией, лекции знаменитых профессоров — высшим наслаждением. Рассказывали, что в Иене у дверей университета его ожидала почтовая карета, в которую он стремительно вскакивал при последних словах знаменитого лектора, чтоб мчаться сломя голову в Веймар, где другому светилу науки предстояло час спустя произносить ученую речь. Мои последние петербургские недели были озарены разговорами Тургенева: он сообщал мне о новых посетителях госпожи Рекамье, о мемуарах Шатобриана, о юноше Мюссе и старце Буонарроти, о врагах Гюго и поклонниках неувядаемой Марс. Он вспоминал о своих встречах с Бейлем-Стендалем в Риме, Флоренции, Сполетто и описывал мне древний бюст Тиверия, посланный ему в подарок этим неподражаемым туристом.
Я любил слушать этого русского европейца. В морозный и снежный Петербург Тургенев вносил с собою теплый воздух континентальной Европы.
Не удивительно, что поэт, беседуя с ним, был оживлен и весел. Я поклонился и прошел в соседнюю гостиную. Через минуту Пушкин подошел ко мне.
— Я все еще не могу назвать вам моего секунданта, — заявил он, — после ноябрьской истории мне трудно найти кого-нибудь.
— Между тем необходимо спешить. Я рассчитывал сегодня на балу условиться обо всем и завтра утром закончить дело.
— Это было б лучше всего. Сговориться недолго: барон Геккерн является в этом деле оскорбленным, и я заранее принимаю все его условия.
— Но их необходимо обсудить и оформить. Я жду вашего представителя.
— Переменим разговор, — прервал меня Пушкин, — к нам идет князь Вяземский.
Действительно, к нам приближался знаменитый петербургский острослов. Мне показалось, что Александр Тургенев, остановившийся под аркой входа, многозначительно указал ему на нас. Друзья Пушкина с некоторой тревогой следили за ним после ноябрьского вызова, и наши переговоры на балу могли им показаться подозрительными. Но я не затягивал общей беседы и после двух-трех фраз отошел в сторону.
Пушкин заговорил с Вяземским о своем журнале:
— Напомни, прошу тебя, Козловскому его обещание дать для «Современника» статью о паровых машинах…
Я удивился этой литературной распорядительности в разгаре приготовлений к дуэли.
В зале происходило между тем бурное перемещение танцующих. Оркестр бодро и весело заиграл пастурель, открывающую четвертую фигуру кадрили, и многочисленные пары возбужденно и радостно занимали свои места для вихревого полета вдоль колонн.
Я следил за нарядной четой — кавалергардом Трубецким и юной Воронцовой-Дашковой, — когда кто-то коснулся моего рукава.
Это был мой коллега по дипломатическому корпусу — атташе при великобританском посольстве, эсквайр Артур Медженис.
С обычным своим флегматичным видом больного попугая, он отвел меня в сторону.
— Пушкин только что пригласил меня быть его секундантом и поручил мне переговорить с вами. Я еще не дал ему окончательного согласия, решив прежде узнать от вас, каковы шансы на мирный исход столкновения…
— Простите, сэр, — отозвался я, — обращаетесь ли вы ко мне, как секундант господина Пушкина?
— Нет, я еще таковым не являюсь.
— В таком случае я лишен возможности вести с вами переговоры по этому делу.
— О, я вижу по вашему тону, что мирный исход исключен. Я сообщу Пушкину о своем отказе…
И он, откланявшись, исчез в толпе. Я продолжал любоваться порывистым финалом пастурели, тщетно ожидая нового посланца Пушкина.
Последняя фигура кадрили была в полном разгаре, когда я решил прервать свои ожидания. У меня оставалась возможность настаивать письменно на выполнении наших условий. Я направился к выходу.
Проходя вдоль колонн, я увидел в соседней красной гостиной Пушкина. Он стоял перед креслом «усатой княгини» Голицыной и, беседуя, с любопытством всматривался в черты старухи, как бы сравнивая этот безобразный облик с портретом, зачерченным им в его «Пиковой даме». На темном фоне померанцевых кущ девяностолетняя гофмейстерина трясла своей огромной напудренной головой, кривила тяжелые отвислые губы и тусклыми провалившимися глазами, обведенными черными кругами, смотрела в упор на поэта, слегка грозя ему острым костлявым пальцем. До меня донеслись отрывочные хриплые звуки ее вороньего голоса…
Я продолжал мой путь за колоннами. Навстречу мне, весело улыбаясь своему живому рассказу, Вяземский вел госпожу Пушкину. Я невольно остановился.
Медленно проплывала она мимо мраморной колоннады, спокойно пронося среди пестрой бальной толпы торжественные очертания своего точеного облика. Оживленное впечатлениями бала, обилием света и призывными всплесками оркестра, словно согретое бесчисленными выражениями поклонения, лицо ее было ясно и почти радостно. Тень страдания в чистом очертании ее висков, казалось, тонула в этом ощущении триумфального шествия по жизни, которая уже успела склонить к ее ногам великого поэта, всепобедного императора и прекрасного, женоподобного юношу.